диалектика пола суламифь файерстоун
Суламифь Файерстоун, Диалектика пола: доводы для феминистской революции
Теоретическое обоснование радикальной позиции было дано в вышедшей в 1970 году и сразу ставшей знаменитой книге Суламифь Файерстоун Диалектика пола: доводы для феминистской революции. 13 В этой работе двадцатипятилетняя активистка «ново-левого» движения и организатор «освободительных» групп Файерстоун предлагала новое объяснение причин тотального угнетения женщин: она определяла патриархат через контроль мужчин над репродуктивными функциями женщин. Поскольку именно рождение и воспитание детей делает женщину зависимой от мужчины в плане материального существования и выживания, то становилось очевидным, по мнению Файерстоун, что биологические различия формируют отношения власти и подчинения. Она предлагала простой, но утопический рецепт решения проблем, предопределенный эйфорией экономического роста и научно-технической революцией 1950-1960-х годов. Новые биотехнологии искусственной репродуктивности были призваны освободить женщин от мужского контроля и доминирования. Несмотря на то, что позитивный проект, как и исходные теоретические посылки Файерстоун, были подвергнуты впоследствии феминистской критике, критическая часть и постановка проблем в книге, ставшей классическим текстом по теории феминизма, сыграли значительную социальную роль в ради-
12 John D’Emilio and Emil Freedman, Intimate Matters. A History of Sexuality
in America (New York: Harper and Row, 1989), p. 25.
13 Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution
(New York: William Morrow, 1970).
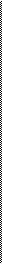
кализации женской «повестки дня» не только в США, но и в других странах.
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
Диалектика пола суламифь файерстоун
Однако вопросы равноправия, равенства с мужчинами теперь уже не стояли в повестке дня. Работы представительниц радикального феминизма, как правило, делали акцент на традиционной бинарной оппозиции биологических полов – мужского и женского (например, «Диалектика пола: проблема феминистской революции» Суламифь Файерстоун). Теперь на первый план вышли различия. А различия объединить не могут. Даже отличия от мужчин не приводят женщин к солидарности. Поэтому «вторая волна», не набрав мощи «первой», ушла в песок теоретизирования.
В рамках структурализма и символического лакановского психоанализа зарождается движение так называемой феминисткой критики: Юлия Кристева, Люси Иригарэ и другие. Центром развития феминистских идей становятся группы роста самосознания, в которых на основе психоаналитической традиции опоры на личный опыт и частные истории (так называемые case studies), переосмысляются стереотипы восприятия и оценки различных ситуаций. Из практики этих групп вырастают специальные образовательные программы для женщин и, наконец, обязательная в США для всех социальных профилей дисциплина о женщинах (womenstudies), а уже позже – с 1990-х годов – во многом оппозиционная ей учебная и исследовательская дисциплина – гендерные исследования (genderstudies).
Одной из центральных тем исследований становится проблема субъективности и идентичности субъекта, в том числе сексуальной идентичности, но также и национальная, и культурно-историческая, и возрастная самоидентификация субъекта. Задача состояла в том, чтобы мыслить различное.
Рози Брайдотти исследует систему властных отношений, которые формируют основные характеристики субъективности. Брайдотти предлагает проект высвобождения женской идентичности, оказавшейся встроенной в иерархическую систему определений, – «политический проект номадизма». Стать номадой (от греческого «номас» – кочевник) – обрести гибкую позицию в отношении своего места, своей роли, своей исключительности, в том числе своего языка. В этой гибкости и активности и состоит способ сопротивления властным структурам. Номадичность позволяет выйти из маскулинной иерархии.
Джудит Батлер считает необходимым провести своеобразную деконструкцию гендера: критически рассмотреть его обусловленность властными отношениями. Гендер – флуктуационная переменная, меняющая свое значение. Самоидентификация связана не с сущностью, а с поведением, которое носит прежде всего имитационный характер, подстраивается под те нормы, что заданы властными структурами, чтобы вписаться в социум. Батлер утверждает перформативность гендера.
Развитием дискуссий о гендере стала квир (queer) – теория. Вводя в оборот термин «квир-субъект», Тереза де Лауретис не связывала его с тем или иным биологическим полом, она подчеркивала внеположенность такого субъекта: он вне иерархически организованных ценностей, он вне центрированного нормативного общества и культуры, он оказывается тем нарушителем порядка и традиций, который своим эксцентричным поведением ставит под сомнение сам порядок, саму нормативность. Предметом квир-исследований являются все формы деконструкции гендера, то есть все формы нарушения устойчивых традиционных представлений о сексуальных идентичностях. Сексуальность мыслится как социальный конструкт, многообразный и меняющийся.
Постмодернистское развитие феминизма, уводящее последний в гендерные исследования, квир-теорию и к «множественным феминизмам», подрывает феминистское движение изнутри. Феминистки отказываются от понимания женской сексуальности, общей для всех женщин. И переходят к плюрализации гендерных определений. Невозможно выделить группу «феминной» идентичности, если «женское» растворяется в этническом, классовом, возрастном, а главное – во множественности не поддающихся никакой классификации идентичностей. Если понятие женской идентичности оказывается конструктом, то и существование понятие «женского» сомнительно. Если нет и не может быть, с точки зрения постструктурализма, никакого фиксированного значимого опыта, как нет фиксированного цельного субъекта и соответственно некой исходной предданной идентичности, может ли «опыт» по-прежнему занимать центральное место в феминистских исследованиях – вопрос. Провозглашая «смерть субъекта», постструктурализм «убивает» и женщину как понятие.
Переход от рассмотрения проблем женщин к анализу традиционной патриархальной культуры в целом
Приверженцы радикального феминизма достаточно быстро перешли от рассмотрения проблем женщин к анализу традиционной патриархальной культуры в целом. Начало этой работе положила в своей знаменитой книге «Диалектика пола» Суламифь Файерстоун. Она утверждала, что патриархат, т.е. система субординации женщин, коренится в биологическом неравенстве полов. Оценивая идеи Маркса и Энгельса (их работы были весьма популярны в среде теоретиков леворадикальных движений протеста конца 60-х годов ХХ века) о классовой борьбе и частной собственности, Файерстоун отмечает, что они слишком сфокусировались на классовой борьбе и уделили мало внимания тому, что она назвала половыми (биологическими) классами. По ее мнению, именно «биологический», а не экономический класс должен стать центральным понятием исторического материализма. Файерстоун переформулирует Энгельса следующим образом: «Исторический материализм – это такая точка зрения на историю, которая видит основную причину и великую движущую силу всех исторических событий в диалектике пола,
т.е. разделении общества на два различных биологических класса. из первого разделения труда по полу развивается экономико-культурная классовая система». Другими словами, для нее первичное разделение на классы – это разделение между мужчинами и женщинами, но этому классовому разделению Маркс не уделил внимания. Она считает движущей силой истории не производство, а воспроизводство. И если мы хотим понять, почему женщины подчинены мужчинам, нам необходимо биологическое, а не экономическое объяснение. Файерстоун напоминает, однако, что нам следует относить неравенство между полами не к наблюдаемым биологическим различиям между ними, но к тому факту, что различные репродуктивные роли женщин и мужчин ведут «к первому разделению труда на основе классов так же, как последующая парадигма кастовой дискриминации основана на биологических характеристиках». Переворачивая и далее марксистскую схему, она предлагает свое решение проблемы неравенства мужчин и женщин – «биологическую революцию». И поскольку пролетариат (по Марксу) должен овладеть средствами производства для устранения экономической классовой системы, женщины также должны овладеть контролем над средствами воспроизводства для устранения половой классовой системы. Как только биологическая реальность воспроизводства будет преодолена с помощью репродуктивных технологий, считает Файерстоун, тот факт, что люди имеют разные половые органы, «не будет более иметь культурного значения». Если консервативная точка зрения основана на признании естественной необходимости таких различий, то радикалка Файерстоун считает, что женщины в силах преодолеть эти различия. Она верит, что, когда женщины и мужчины перестанут играть различные роли в репродуктивной драме, станет возможным устранение различий в половых ролях. Она убеждена, что эти роли обусловили возникновение биологической семьи. По ее мнению, когда репродуктивная технология сделает возможным искусственный способ репродукции людей, потребность в биологической семье исчезнет. А как только биологическая семья перестанет быть репродуктивным союзом, она перестанет быть и экономическим союзом. Если технология изменит репродуктивную роль женщин и их оценку в качестве детородных функционеров, тем самым изменится и роль мужчин как преимущественно публичных функционеров. Файерстоун убеждена, что не имеет особого значения, как много образовательных, юридических, и политических прав имеют женщины и как много женщин вовлечено в общественное производство. Лишь различия в воспроизводстве детерминируют первое разделение труда и возникновение «биологических классов». По ее мнению, до
тех пор, пока не изменится способ биологического воспроизводства, будут существовать
два противоположных «биологических класса» и дискриминация женщин. Женщины, утверждала Файерстоун, должны контролировать средства воспроизводства человеческих существ для преодоления «сексуальной классовой системы». Для достижения этих целей она предлагала заменить традиционный способ деторождения репродуктивными технологиями, то есть шире использовать оплодотворение и выращивание детей «в пробирках». В результате этого, по ее мнению, половые различия между людьми перестанут иметь социальное и культурное значение. Ничего существенного не произойдет с женщинами до тех пор, пока не изменится способ биологического воспроизводства. Она верила, что если будут преодолены различия между продуктивными и репродуктивными ролями мужчин и женщин, станет возможным преодоление всех иных отношений и структур подавления. Файерстоун считала, что в андрогинной культуре произойдет интеграция мужской технологичной и женской эстетической культур. Несмотря на явный биологизм и радикализм ее позиции, а может быть, именно вследствие этого, книга сыграла значительную роль в развитии гендерной теории, поскольку идея биологических классов активно дискутировалась в литературе как сторонниками, так и ее оппонентами.
Следует подчеркнуть, что хотя идея «биологических классов» является фундаментальной в концепции Файерстоун, ее позицию нельзя отнести к традиционному биодетерминизму. Биодетерминизм основан на признании обусловленности различий в социальных ролях и статусах женщин и мужчин их естественными биологическими различиями. Употребляя понятие «биологические классы», Файерстоун фактически говорит совсем о другом: о возникновении социальных классов на основе биологических различий. Ее теорию можно назвать предгендерной, ибо только неразвитый в то время понятийный аппарат не позволил ей адекватно выразить свои идеи. В то же время необходимо отметить, что резкость и односторонность позиции Файерстоун отпугнула многих женщин, которым опыт материнства приносил радость и чувство самореализации. Помимо этого, идеи Файерстоун критиковались и самими феминистками за возвеличивание рациональных мужских ценностей и отвержение женских ценностей материнства.
Многие феминистки резко критиковали идеи Файерстоун. В частности, Мэри О’Брайен высказала мысль о том, что патриархат является мужской компенсацией за отчуждение от процесса биологического воспроизводства и своеобразной попыткой контракта. Мужчина пытается контролировать женское тело, чтобы контролировать своих детей и быть уверенным в своей связи и участии в процессе деторождения. Новые технологии, считает О’Брайен, при которых участие отца в деторождении становится еще менее очевидным, а его отчуждение нарастает, не снимают противоречия. Аналогичные позиции занимали феминистки Адриенна Рич, Андреа Дворкин, Маргарет Эттвуд и др. В частности, Дворкин утверждала, что новые репродуктивные технологии могут стать еще одной ловушкой и новым средством контроля над телом женщины и самой женщиной. Робин Роуланд рассматривает опасности репродуктивной технологии на примере работ Джона Постгейта, британского профессора микробиологии, который полагал, что лучший способ предотвращения избыточного населения – это создание пилюль, которые контролируют пол плода. В таком случае можно будет ограничивать рождение девочек и сократить население женского пола, что в последующем неизбежно приведет к сокращению рождаемости. Такое использование репродуктивной технологии, по мнению Роуланд, создает для женщин ситуацию еще большего контроля со стороны мужчин, чем раньше. Рассматривалась возможность создания специфического мира – в нем сохраняется только небольшое число женщин, от которых берутся яйцеклетки, замораживаются, потом размораживаются по мере необходимости, оплодотворяются в пробирках и вживляются в искусственную плаценту. Таким образом, женщина еще более превращается в некую машину, инструмент деторождения, причем «продукт» этого процесса еще более отчужден от нее, чем раньше. Здесь необходимо отметить, что тема репродуктивных технологий, ныне почти забытая, была очень популярна в 70-е годы не только у феминисток, но и у футурологов.
В результате дискуссии, спровоцированной Файерстоун, радикальные феминистки обратили свой взгляд на материнство. Адриенна Рич рассматривает материнство как личный опыт и социальный институт. На примере различных данных она показывает, что если материнство в личностном плане может приносить удовольствие и радость, то институт материнства налагает на женщину слишком много ответственности и ограничений, что приводит к стрессам. Энн Оукли в своих работах рассматривает миф о материнстве, состоящий, по ее мнению, из трех идей: что детям нужна биологическая, а не социальная мать; что дети, особенно маленькие, нуждаются в том, чтобы именно мать (а не отец) целиком и полностью посвящала себя заботам о них; что ребенку нужен один ухаживающий, а не множество. Оукли показывает фальшь этих утверждений. Представление о том, что биологическая мать лучше, чем социальная, опровергается тем фактом, что усыновленные и удочеренные дети ни в чем не отстают от тех, кто воспитывался в кровных семьях. Второе утверждение (что дети нуждаются именно в матери, а не отце) опровергается тем, что ребенку в принципе нужен кто-то, с кем можно установить тесные контакты. Третье утверждение опровергается ссылками на детей из израильских кибуцев, которые воспитываются коммуной и ничуть не хуже детей, которые воспитываются в семьях. Кибуц – это община сельского типа в Израиле, члены которой в обмен на свою рабочую силу обеспечиваются всем необходимым и где отсутствует частная собственность. Оукли считает, что биологическое материнство не необходимо для женщин, а является лишь культурным конструктом – мифом с целью подавления. Не желая быть оцененными как нереализовавшие себя или ненормальные, те женщины, которые были бы счастливы без детей, становятся в конце концов матерями, и часто несчастными. А те женщины, которые хотели бы разделить свою материнскую ответственность с кем-либо, вынуждены быть матерями 24 часа в сутки, что делает их тоже несчастными. Неудивительно, говорит Оукли, что так много матерей несчастливы, и эта ситуация усугубляется сознанием того, что неудача и несчастье в материнстве воспринимается женщинами как личностная катастрофа, как провал.
— женщины представлены дегуманизированными как сексуальные объекты, вещи или товар (предмет потребления);
— женщины представлены как сексуальные объекты, которые наслаждаются унижением или болью;
— женщины представлены как сексуальные объекты, испытывающие сексуальное удовольствие от изнасилования, инцеста или других сексуальных нападений;
— женщины представлены как сексуальные объекты, связанные или порезанные или изувеченные или с синяками и кровоподтеками или с физическими повреждениями;
— женщины представлены в позе или позиции сексуального подчинения, раболепия;
— части женского тела представлены так, что женщина сводится к этим частям;
— женщины показаны как совокупляющиеся с предметами или животными;
— женщины представлены в сценах деградации, унижения, увечья, пыток, показаны как униженные, грязные, истекающие кровью, с синяками и кровоподтеками в контексте, который делает эти условия сексуальными».
Смерть революционерки
Мемориальная служба походила на радикально-феминистское возрождение. Женщины раздавали приглашения в группы роста самосознания и демонстрировали копии текстов, напечатанных нью-йоркской группой Редстокингз, со-основательницей которой была Файерстоун. Радиоведущая WBAI Фрэн Лак призывала присвоить студии на 10-й улице название Мемориальной квартиры Суламифь Файерстоун и арендовать ее «на вечные времена» для «какой-нибудь пожилой и значительной феминистки». Кэти Сарачайлд, которая в свое время создала группы роста самосознания и придумала лозунг «Сестринство — это сила», предложила собрать мемориальную встречу женского освободительного движения имени Суламифь Файерстоун на тему «Что делать». После нескольких призывов с кафедры «ловить момент» и «не останавливаться», дюжина женщин снялась с места, чтобы организовать собрание в квартире Сарачайлд.
В середине службы 78-летняя феминистская писательница Кейт Миллетт поднялась на кафедру, держа экземпляр «Душных помещений» (1998), единственной книги, которую Файерстоун опубликовала после своего выдающегося манифеста «Диалектика пола: необходимость феминистской революции», вышедшего в 1970 году. Миллетт читала отрывок из главы «Эмоциональный паралич», где Файерстоун писала о себе в третьем лице:
«Она не могла читать. Она не могла писать… Она иногда узнавала на лицах других радость, стремление и другие эмоции, которые, как она помнила, ей случалось испытывать давным-давно. Но ее жизнь рухнула, и у нее не было плана спасения».
Ясно, что нечто ужасное случилось с Файерстоун, но не только это заставило Миллетт выбрать такой отрывок. После окончания чтения она сказала: «Я думаю, мы должны помнить Шули, потому что сами сейчас в такой же ситуации». Трудно сказать, о чем в этот момент думали присутствующие — об смерти Файерстоун или уходе целого поколения феминисток, которые так и не смогли преуспеть в мире, для создания которого так много сделали.
В конце 1960-х Файерстоун с небольшой ячейка своих «сестер» были в самом центре движения, которое серьезно изменило американское общество. В то время женщины не занимали практически никаких важных выборных должностей, почти любая престижная профессия была предназначена для мужчин, домоводство было высочайшим женским призванием, аборты были фактически нелегальны, а изнасилование являлось стигмой, которую окружали молчанием. Феминизм переживал застой со времен первой волны, когда американское женское движение выиграло битву за право голоса в 1920 — и проиграло войну за дальнейшую эмансипацию.
Феминистскую энергию сначала присвоил потребительский бум эпохи джаза, затем ее похоронило под десятилетиями экономической депрессии и войны, до тех пор пока недовольство женщин послевоенной эпохи, превосходно описанное в «Загадке женственности» Бетти Фридан (1963), не дало начало «второй волне» феминизма. Радикальный феминизм образовался параллельно с умеренным женским движением, представленным такими объединениями как Национальная организация женщин (NOW), созданная в 1966 Бетти Фридан, Эйлин Эрнандес и другими, и продвигаемым изданиями вроде «Ms.», которое основали Глория Станем и Летти Коттин Погребин. Это умеренное движение стремилось, как говорилось в декларации о намерениях NOW, «предоставить женщинам полноценное участие в главных сферах американского общества», главным образом через равную зарплату и равное представительство. В отличие от умеренных, радикальные феминистки стремились целиком пересмотреть общественную и частную сферы жизни.
Немногие были столь радикальными или столь отчаянными как Суламифь Файерстоун. Чуть выше полутора метров ростом, с гривой черных волос до пояса и черными пронзительными глазами за очками в стиле Йоко Оно, она среди соратниц получила прозвища «поджигательница» и «шаровая молния». «Она горела и сверкала», — говорила Энн Снитоу, руководительница программы гендерных исследований в Новой школе (частный университет в Нью-Йорке — прим. перев.) и участница одной из ранних радикальных ячеек. «Было потрясающе находиться в ее обществе».
Файерстоун была известна прежде всего благодаря своей публицистике. «Записки первого года», периодическое издание, которое она основала в 1968 (за ним последовали, в 1970 и 1971 «Записки второго и третьего года» соответственно), сформировало фундаментальный дискурс радикального феминизма, включая такие концепты как «личное — это политическое» и «миф о вагинальном оргазме». Но больше всего Файерстоун помнят благодаря «Диалектике пола», книге, которую она писала как одержимая и закончила всего за несколько месяцев.
Примерно на двухстах страницах «Диалектика» заново интерпретирует Маркса, Энгельса и Фрейда, утверждая, что «система половых классов» пролегает гораздо глубже, чем любое другое общественное или экономическое разделение. Традиционная семейная структура, утверждала Файерстоун, находится в основе женского угнетения. «Если революция не уничтожит под корень базовую ячейку общества, биологическую семью — трещину, через которую в любой момент может проникнуть психология власти — то паразита эксплуатации никогда не вывести», — писала она. Она вдумчиво, но с типичной для нее резкостью разрабатывала тезисы: «Беременность — это варварство», деторождение — «это как испражняться тыквой», а детство — это «управляемый кошмар». Файерстоун понимала, что такие утверждения вряд ли встретят одобрение, особенно у женщин. «Это больно» — предупреждала она на первой странице книги, потому что «неважно, до каких уровней самосознания вы дошли, проблема всегда лежит глубже». Она продолжала:
Помимо стремления добраться до истоков неравенства Файерстоун также считала, что разница между радикальным и мейнстримным феминизмом заключается в том, что «конечная цель феминистской революции должна подразумевать, в отличие от первоначального феминистского движения, не только устранение мужских привилегий, но и устранение полового разделения вообще; различие гениталий не должно больше иметь культурного значения».
В одной из последних глав книги Файерстоун набросала свое видение будущего, упомянув, что она намеревается лишь «подтолкнуть мысли в новом направлении, а не требовать действий». Она представила мир, в котором женщины могли бы быть освобождены посредством искусственного воспроизводства вне матки; в котором коллектив занял бы место семьи; где дети получили бы право на «немедленное переселение от жестоких родителей». Как и ожидалось, это предложение породило не столько свежие мысли, сколько ненависть, однако многие из идей Файерстоун — права детей, ликвидация «мужских» должностей и традиционного брака, изменение общественных отношений вследствие «кибернетической» компьютерной революции — в наше время подтверждают ее прозорливость.
«Диалектику» одновременно восхваляли и разносили, часто и то и другое в одном обзоре; «Таймс» назвала его авторку «выдающейся» и «нелепой». Книгу высмеивали на ток-шоу в то время как она продвигалась наверх в списке бестселлеров, ее пренебрежительно именовали «цитатником Мао для женщин», а она меняла взгляды на мир у далеких от левизны женщин Америки. Миллетт, чья «Политика пола» вышла в том же году, сказала мне «Я бросила вызов явному мужскому шовинизму, Шули бросила вызов всей системе. То что она сделала, было куда опаснее».
Участие Файерстоун в организации женского движения было не менее важным. Она основала первые и самые значимые феминистские группы в стране, играла ключевую роль в осмыслении теоретических позиций движения и в реконструкции его забытой истории. И все это она сделала всего за три года. Джо Фриман, феминистская писательница и активистка, работавшая с Файерстоун с самого начала, сказала на поминальной службе: «Когда я вспоминаю о вкладе Шули в движение, я представляю ее метеоритом. Она сверкнула на полуночном небе и исчезла».
В 1967 году в День труда, коалиция левых групп, участвующих в борьбе за гражданские права и в антивоенном движении, созвала Национальную Конференцию по новой политике в Чикаго. Пришли две тысячи молодых активистов, в числе которых была и 22-летняя Файерстоун. Тогда она обитала в бандитском районе на севере Чикаго, работая сортировщицей на почте и изучая фигуративизм в чикагской Школе искусств. Тремя годами ранее она переехала в Чикаго из Сент-Луиса, а ее политический опыт ограничивался скромным протестом против расовой политики у дверей сент-луисского банка и общением с католическим рабочим движением. Однако на конференции она немедленно заметила, что ключевая тема была вычеркнута из повестки: второстепенный статус женщин. Это было частым упущением; Новые Левые утопали в мачизме, квинтэссенцией которого стал комментарий Стоукли Кармайкла о том, что «единственная позиция женщин» в Студенческом координационном комитете — «позиция лежа». Там Файерстоун встретила Джо Фриман, которая разделяла ее негодование, и вместе они набросали черновик резолюции, требующей объективных законов о браке и собственности, «полного контроля женщин над своими телами», а также 51-процентное представительство женщин на конференции.
Председатель проигнорировал эту резолюцию. «Они посмеялись над нами», — вспоминала Фриман. «Давай проходи, малышка. У нас есть дела поважнее женских проблем. Затем председатель подошел и в прямом смысле потрепал Шули по голове». Вскоре после этого Файерстоун и Фриман учредили Вестсайдскую чикагскую радикально-феминистскую группу. Тем не менее многие женщины в этой группе, также как и в Чикагском женском освободительном союзе, который вырос из Вестсайдской группы, считали, что интересы управляемых мужчинами Новых Левых должны быть в приоритете. Наоми Вайнштейн, в те годы молодая нейробиолог в Чикагском университете, вспоминала: «Первое, что сделал Чикагский союз — устроил голосование о том, чтобы передать половину наших денег Черным Пантерам». Файерстоун, которая была мало заинтересована в участии в «Дамском вспомогательном корпусе левых», как она его называла, собрала фракцию, которая называла себя просто — феминистками.
За несколько месяцев до Конференции по новой политике несколько студентов, изучавших киноискусство в Чикаго, избрали Файерстоун для проекта «Современное поколение». Их бесценный документальный фильм «Шули» запечатлел жизнь Файерстоун в роли подающей надежды художницы и сохранил ее эмоциональное признание «Я все думаю — мне двадцать два, и что я совершила?», — говорит она одному из режиссеров, Джерри Блюменталю. «Я хочу сделать что-то. Я хочу попасть в такой мир, где красота и сила не будут редкими проблесками, а где они будут присутствовать всегда, в каждом слове и каждом мазке кисти, не только эпизодически».
Эта энергия рано проявилась в Файерстоун, и стала источником конфликтов в ее семье. Она была вторым ребенком и старшей из дочерей среди шестерых детей — трех мальчиков и трех девочек, родившихся у Кейт Вайсс, немецкой еврейки, сбежавшей от Холокоста (она происходила из длинной череды ортодоксальных ученых, раввинов и канторов) и Сола Файерстоуна, коммивояжера из ассимилировавшейся бруклинской еврейской семьи, который служил в армии во время Второй мировой. В 1945, когда Кейт нянчила новорожденную Суламифь, отделение Сола вступало в освобожденный концлагерь Берген-Бельзен. Сол самостоятельно изучил, а затем принял иудаизм в подростковом возрасте. С рвением неофита он контролировал своих младших братьев и сестер, а затем и детей — особенно старшую дочь. По словам Тирзы Файерстоун, младшей из трех дочерей, «отец направлял свой гнев на Шули».
Лея Файерстоун Сеги, средняя дочь и семейный миротворец, которая впоследствии стала психотерапевтом, вспоминала безобразный скандал, когда Суламифь было 16. Отец и дочь сцепились на лестнице, Сол кричал «Я убью тебя!», а Суламифь отвечала «Я убью тебя первой!» Самый младший из братьев, Эзра, предположил, что такая враждебность происходила из их глубокого сходства: «Он не уступал, но и она не уступала. Они оба были выдающимися и очень упрямыми». Кейт не вмешивалась. «У моей матери был пассивный взгляд на женственность, который определялся тем, что она считала подходящим поведением для еврейской женщины», — говорила Тирза. Суламифь постоянно сопротивлялась предписаниям родителей. Когда она спросила Сола, почему должна заправлять постель брата, тот ответил «Потому что ты девочка».
Девочек, которые не следовали правилам дома Файерстоунов, изгоняли. Лея в семнадцать лет однажды нарушила шаббат, читая с фонариком под одеялом, и ее выставили из дома. Тирза вышла замуж за набожного христианина и от нее официально отреклись. (Позже, когда она приняла обновленческий иудаизм Майкла Лернера, в котором прославлялась женская духовность, и стала раввином, то заслужила еще большую немилость отца). Младшие братья, Эзра и Неемия, остались строгими ортодоксами; Эзра позднее учился на раввина, а Неемия стал учредителем Западного банка. Только старший сын, Дэниел, пошел наперекор отцовским желаниям: вместо того чтобы продолжать обучение в иешиве, он начал изучать античность и философию в университете Вашингтона в Сент-Луисе. Суламифь закончила два класса за год, чтобы присоединиться к нему. Разница между ними была меньше года, и в детстве они с Дэниелом были неразлучны «почти как близнецы», писала Файерстоун в «Душных помещениях». Однако она добавляла:
«К концу первого курса я больше не следила за соблюдением предписаний, и как-то раз в шаббат, когда родителей не было дома, он ударил меня за нарушение Галахи. Это была какая-то мелочь, я даже не помню что. Но больше он не разговаривал со мной».
«Маркс сам не понимал, насколько он близок к чему-то важному, — писала Файерстоун в «Диалектике», — когда он заметил, что семья заключает в себе зародыш всех противоречий, которые позднее развиваются до размеров общества и государства». Для нее единственная семейная связь, которая выдержала испытания, была связь с сестрами, особенно с Леей, которая стала, по ее собственным словам, «главной системой поддержки Шули». Они вместе снимали комнату в Чикаго, а позднее Лея неохотно выступала в качестве представительницы и посредницы Суламифь на дебатах в женском движении. «Шули понимала, что это нечестно, — говорила Лея, — Она повторяла, что неправильно заставлять меня исполнять роль жены. Но в то же время ей это было нужно».
В октябре 1967 Файерстоун объявила Вестсайдской группе, что переезжает в Нью-Йорк. «Я решила, что она собирается продолжать изучение искусства», — говорила Джо Фриман. Некоторые из сокурсников Файерстоун рассказывали, что она убегает от жестокого бойфренда. В неопубликованном романе с ключом, над которым Файерстоун работала десятилетиями до самой смерти, она вспоминала постоянные избиения, он бил ее так сильно, что выбил зуб. «Я думаю, она боялась, что он убьет ее», — сказал мне Эндрю Клейн, близкий друг Файерстоун в те годы. Этим страхом она не делилась с другими феминистками, единственной из «сестер», которой она сказала, была Лея.
В Нью-Йорке Файерстоун поселилась в Ист-Виллидж — в то время это был депрессивный район, населенный эмигрантами из Восточной Европы, который стал аванпостом как наркоторговли, так и контркультуры. Она сняла однокомнатную квартиру на Второй восточной улице, которую позднее, уже перебравшись на Десятую улицу, сохранила как свою художественную студию. Она работала официанткой в закусочной, чтобы содержать себя, и рисовала все свободное время. Она писала мрачные экспрессионистские семейные портреты, а также одиночные портреты женщины и активистов 19 века, включая лидера аболиционистов Фредерика Дугласа и феминистскую писательницу Маргарет Фуллер.
Вскоре после переезда Суламифь вместе с Пэм Аллен, активисткой движения за гражданские права, с которой они познакомились в Чикаго, собрали полдюжины молодых женщин из гражданского и антивоенного движений и основали группу «Нью-Йоркские радикальные женщины», первую в своем роде в Нью-Йорке. Они встречались еженедельно в квартирах участниц или в арендованном офисе в Нижнем Ист-Сайде. «Одно то, что эти женщины решили собираться и обсуждать свои дела без мужчин, уже было радикальным», — говорит Аллен. «Это бесило людей». Женщины, которые посещали эти ранние встречи, описывали пережитое как «эйфорию», «взрыв идей», «нечто похожее на влюбленность». В своем письме Лее от 3 февраля 1968 года Файерстоун писала: «Мне кажется, что мы действительно нашли что-то новое и прекрасное — радикальный феминизм, и если не облажаемся, то все пойдет в совершенно другую сторону».
Файерстоун была катализатором. «У нее уже были готовы аргументы, готов план», — сказала мне Колетт Прайс, одна из первых участниц группы, — Для нас она была американской Симоной де Бовуар». Кэрол Джиардина, которая в свое время организовала первую на Юге группу женского освобождения в Гейнсвилле, штат Флорида, говорила, что Файерстоун сознавала, «что группы должны иметь организационную структуру и принципы… иначе будет обыкновенный кавардак». Несмотря на то, что иерархия была предана анафеме большинством феминисток, которые рассматривали лидерство как мужское и угнетательское, а сестринство как сообщество равных, Файерстоун раздражал эгалитаризм. Ей не хватало терпения на рутину, ее товарки вспоминают, что она не соглашалась нумеровать страницы и отказывалась печатать на машинке. Писательница и бывшая редакторка журнала Ms. Робин Морган до сих пор кажется раздраженной, вспоминая случай, когда несколько женщин решили прибраться в комнате для собраний, а Файерстоун заявила «Я интеллектуалка, я не подметаю пол». В другой раз, когда Файерстоун произносила слишком длинную речь, одна женщина обвинила ее в наличии «мужских гормонов», и тогда Файерстоун указала на свою грудь со словами «Посмотри-ка на это!»
Сестринство не было в чести у видных феминисток того времени, однако Файерстоун, которая интенсивно изучала первую волну феминизма и впоследствии посвятила свою «Диалектику» Симоне де Бовуар, была уверена, что новое движение просто обязано знать своих основательниц и главные события. Летом 1968 Файерстоун вместе с Энн Коэдт, другой участницей нью-йоркской группы, посетили Париж и попытались передать экземпляр «Записок первого года» де Бовуар. «Ходили повидать С. де Б. в воскр.», — писала она Лее. — Ее не было дома и жуткая консьержка пролаяла, что нам следовало сначала назначить встречу». Они оставили журнал и записку, но де Бовуар была в отъезде все лето.
В январе 1969 по дороге в Вашингтон Файерстоун и еще пара женщин постучались в дверь Элис Пол, которая в 1921 году написала оригинальную Поправку о равных правах и которой было уже за 80. Она пригласила их в темную гостиную, где на столах были разбросаны тексты некогда существовавшей Национальной женской партии. «Она отнеслась к нам с большим подозрением», — вспоминала одна из посетительниц, Барбара Меерхоф. Пол указала на стену, где висели портреты грозных женщин — все они некогда были знаменитыми суфражистками — и потребовала, чтобы гостьи опознали их. «Мы не имели ни малейшего представления», — говорила Меерхоф, — это было симптомом большой проблемы: как мы можем нести свет, если не знаем откуда мы сами?»
Файерстоун и другие ехали в Вашингтон, чтобы посетить протест Новых Левых против инаугурации Никсона. Позже во время протеста, под большим тентом, установленным рядом с монументом Вашингтона, лидер антивоенного движения Дейв Деллинджер, исполнявший роль распорядителя, объявил: «Женщины попросили всех мужчин покинуть сцену». Они не просили, но замечание произвело неприятный эффект, который усилился, когда парализованного вьетнамского ветерана уносили, чтобы дать дорогу этим «освободительницам». Мэрилин Уэбб, местная феминистка, которая готовилась выступить, вспоминала, что подумала тогда: «Боже мой, как я сюда вообще попала?» Она успела, по ее словам, произнести лишь три предложения «самой умеренной речи, какую вы только можете вообразить», как мужчины начали кричать: «Стащите со сцены и оттрахайте ее!» и «Трахнем ее в темном переулке!» Все это время, вспоминала она, «Шули справа от меня говорила «Не останавливайся!» Файерстоун попыталась выступить следующей, но ее заглушил поток сексуальных оскорблений.
Этим вечером Уэбб и другие участницы ее группы собрались у нее в квартире. «Каждая в этой комнате пришла к одному заключению — что должно быть отдельное движение» — говорила она. (Уэбб позднее основала «Off our backs», дольше всех просуществовавшую радикально-феминистскую газету, и первую программу женских исследований в Годдард-колледже). Файерстоун наконец получила возможность высказаться в письме «к левым», опубликованном десятью днями позднее в радикальном еженедельнике Гардиан, выходившем в Нью-Йорке:
«У нас есть дела поважнее, чем пытаться переубедить вас. Вы придете к этому сами, когда будет нужно, потому что мы нужны вам больше чем вы нам… А сейчас мы говорим — отвалите, леваки. Теперь вы можете самостоятельно созерцать свой пупок. Мы начинаем свое собственное движение».
В марте 1969 года Файерстоун организовала первое национальное обсуждение абортов в Мемориальной церкви Джадсона на Вашингтон-сквер. Она убедила 12 женщин рассказать о своем опыте, который в те времена считался позорным секретом: о не сработавших контрацептивах, о подпольных операциях, о горе при передаче ребенка на усыновление. Обсуждение собрало сотни людей обоих полов, которые с уважением выслушали этих женщин и аплодировали их признаниям.
К тому времени группы, которые основала Файерстоун, и множество их подразделений уже мелькали в заголовках, посвященных воинствующим протестам и уличным представлениям. Они сорвали слушания по закону об абортах в Олбани; оккупировали рестораны, которые отказывались обслуживать женщин «без сопровождения»; устроили «похороны традиционной женственности» на Арлингтонском национальном кладбище (объект захоронения носил бигуди); выпустили десятки белых мышей, чтобы создать хаос на свадебном базаре в Мэдисон Сквер Гарден; затеяли показательные домогательства на Уолл-Стрит, чтобы отплатить похотливым мужчинам той же монетой; и конечно, организовали знаменитый «Мусорный бак свободы» на конкурсе красоты Мисс Америка в Атлантик-сити, куда бросали туфли на каблуках, бюстгальтеры, кастрюли и сковородки, экземпляры Плейбоя и другие «пыточные инструменты для женщин». А когда Файерстоун уволили с работы и хозяин не выплатил ей зарплату, феминистки штурмовали его ресторан и заставили отдать долг немедленно.
Однако стремительное размножение групп было не только многообещающим сигналом, но и тревожным знаком. Группа Нью-Йоркских радикальных женщин скончалась вскоре после протеста против инаугурации, сокрушенная лавиной «развидений» и внутренних разногласий. Группа Редстокингз, организация-наследница, основанная Файерстоун и Эллен Уиллис, журналисткой Виллидж Войс и Нью-Йоркер, развалилась из-за споров о роли роста самосознания, обвинений Файерстоун и Уиллис в доминировании на собраниях и, после того как их процитировали в Гардиан, в «коллекционировании» внимания. В конце 1969 года Файерстоун вместе с Энн Коэдт создала организацию, которая, как она надеялась, сможет преодолеть эти проблемы. Коэдт набросала учредительную декларацию, а Файерстоун написала манифест, в котором разработала структуру организации Нью-Йоркских радикальных феминисток, состоящей из отдельных небольших «бригад». После первоначального шестимесячного периода, во время которого участницы такой бригады изучали феминистскую историю и проводили феминистские акции, они могли подать заявление на официальный статус в расширенной организации и начинать воспитывать новые кадры. Каждая команда должна была называться в честь одной из знаменитых феминисток прошлого и составить биографическую брошюру о ней. «Мы пришли к гибкому, недогматичному подходу», — писала Файерстоун, — «МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО РАБОТАЕТ».
В апреле 1976 года журнал Ms. опубликовал статью, которая вызвала больший поток писем, чем любая из ранее опубликованных. Ее написала Джо Фриман, а тема была посвящена тому, о чем она долгое время избегала говорить публично: «социальной болезни», которая в течение нескольких лет изматывала женское движение. Она называла ее «трешингом», и писала:
«Как раковая опухоль, от тех, кто имел репутацию росли нападки на тех, кто просто были сильными; от активисток — на тех у кого были идеи; от ярких индивидуальностей — на тех, кому не удалось быстро приспособиться к вывертам и изгибам меняющейся линии партии».
«Трешинг» начался среди группы Нью-Йоркских радикальных женщин всего через несколько недель после ее создания. В письме к Лее Файерстоун сообщала, что несколько женщин в группе составили меморандум против нее, Энн Коэдт и Кэти Сарачайлд «за то что они были сеющей раздор фракцией», также она писала: «они набросились на меня за то что я занимаю оборонительную позицию и веду себя не «по-сестрински». Эти женщины проголосовали за исключение Файерстоун из группы. Одна из участниц, Энн Форер, была против: «Я сказала «У нас должна быть Шули. Не будет никакого женского освобождения без нее». Голосование провалилось.
В Вашингтоне Мэрилин Уэбб принудили покинуть журнал Off Our Backs — только потому, что у нее единственной был опыт в журналистике. «Сначала мне сказали: «Ты вообще не должна писать, а только помогать другим», — вспоминала она. Затем ей объяснили, что она не имеет права принимать приглашения публично выступить. «А потом просто сказали выметаться». Джо Фриман травили участницы Вестсайдской группы, которую она в свое время помогла создать. «Распространялись злобные намеки о моих «мужских» амбициях» — например, стремлении завершить образование», говорила она. По словам Кэрол Джиардины, которая сейчас преподает женские исследования и американскую историю в Куинз-колледже, она не знает никого из тех, кто основали группу и занимались организационной работой на начальном этапе, кого бы не вышвырнули вон. «Это было бедствие, настоящее бедствие». Саму Кэрол выгнали из ее собственной флоридской группы сторонницы культа «лунной богини», обвинив в слишком сильной «идентификации с мужчинами».
Ансельма Делл’Олио, основательница Нового феминистского театра в Нью-Йорке, первая публично заявила о трешинге. В обращении от 1970 года, озаглавленном «Распри и саморазрушение в женском движении: заявление об отставке», которое было доставлено на Конгресс за объединение женщин в Нью-Йорке, она предупреждала: «Ненависть, притворяющаяся псевдоэгалитарным радикализмом под «проженской» вывеской, превратились в пугающе беспощадный левацкий анти-интеллектуальный фашизм». Услышав обращение, несколько женщин, включая Фриман, встретились и поклялись бороться с этой проблемой. «Но вместо этого мы снова утонули в нашей изоляции», — сказала Фриман, —в результате большинство женщин тоже бросили эту идею, как и я. Две из них оказались в больнице с нервным расстройством». После того как Ти-Грейс Аткинсон была вынуждена покинуть собственную группу «The Feminists», созданную ей в Нью-Йорке, она заявила: «Сестринство — это сила. Оно убивает. Чаще всего сестер». Это наблюдение встретило понимание у такого множества женщин, что вскоре стало одной из самых цитируемых феминистками строк, или, скорее, неверно цитируемых — слова «чаще всего» исчезли из него.
Файерстоун и Коэдт назвали первое отделение Нью-Йоркских радикальных феминисток бригадой Стэнтон-Энтони, в честь Элизабет Кэди Стэнтон и Сьюзан Б. Энтони. Но судьбу группы решила другая бригада, Вест-Виллидж-1, названная не в честь феминистки-предшественницы, а в честь района обитания. Неофициальной лидеркой бригады была Сьюзан Браунмиллер, журналистка Виллидж Войс.
Вот фрагменты протоколов собраний бригады за 1970 год из документов Браунмиллер в Гарвардской библиотеке Шлезингера:
Февр. 1, 1970. Постановили: «Все акции, инициированные «нашей» группой и проведенные нами должны быть записаны на наше имя и не связаны с головной группой».
Февр. 8. Проведено голосование по поводу разделения бригады на две части. (6 за, 5 против, 3 воздержались).
Февр. 15: Дебаты в течение последней недели по поводу разделения группы стали причиной «огорчения» и «подняли вопросы о пассивности женщин и их неспособности иметь дело с властью».
Март 8: На повестке дня: «Отмена названия «Бригада Стэнтон-Энтони» — почему они должны называться в честь двух известных феминисток?»
Март 29: «Обсуждение манифеста Нью-Йоркских радикальных феминисток — поднять вопрос на собрании большой группы, чтобы пересмотреть манифест».
Браунмиллер отказалась разговаривать со мной об этом инциденте, отослав меня к своим мемуарам «В наше время» (1999), в которых заявляла, что Файерстоун внезапно покинула свое четвертое творение, группу Нью-Йоркских радикальных феминисток, после раскола в своей бригаде Стэнтон-Энтони. Джон Дафф, скульптор и бойфренд Файерстоун, с которым они то сходились, то расходились в тот период, вспоминает ее слова о том, что ее вынудила уйти «анти-лидерская фракция». «Догадайся, кто стал новыми лидерами?», — заявила она ему, — Антилидеры». Позже, в вечер голосования Файерстоун появилась у двери Энн Форер и сказала: «Они выкинули меня, вот и все».
Распад Нью-Йоркских радикальных феминисток совпал с первым публичным успехом публикаций женского движения. «Политика пола» Кейт Миллетт, «Диалектика» Файерстоун и «Сестринство — это сила», антология под редакцией Робин Морган, хорошо продавались и широко освещались в СМИ (Миллетт даже была на обложке журнала Тайм). Однако к тому времени как «Диалектика» появилась в книжных магазинах в октябре 1970, Файерстоун уже полгода была в добровольном изгнании из движения. На экземпляре, который она послала Лее, она написала: «Лее, в конечном итоге единственной настоящей сестре».
В своих мемуарах Браунмиллер писала, что Файерстоун хотела, чтобы книга «вознесла ее на вершину рядом с Симоной де Бовуар. Она наблюдала как СМИ увлечены Кейт и с нетерпением ждала своей очереди». Другие вспоминают совершенно противоположное. Феминистки к тому времени уже обвинили Файерстоун в нарушении принципа «мы все равны» за получение аванса за книгу — меньше двух тысяч долларов — и за появление в шоу Дэвида Сасскинда (в свою очередь Браунмиллер подвергалась нападкам за то же самое — прим. перев.). Джеймс Лэндис, редактор Файерстоун в издательстве Уильяма Морроу вспоминает свое изумление когда «она пришла ко мне чрезвычайно взволнованная и сказала, что женщины в какой-то там группе требуют себе авторские права на книгу. Я сказал ей «Забудь об этом!»
Вместо этого в последнюю минуту она стала затягивать процесс выпуска книги массой мелких исправлений. Она объяснила это в своем романе с ключом: «Она думала об Энн Моффитт» — ее псевдоним для Миллетт — «как о приманке, на которую светит прожектор». Ее страхи оказались обоснованными. Внимание, связанное с публикацией «Политики пола», вызвало немедленное враждебность как внутри движения, так и вне его. Зарождающееся лесбийское крыло запугивало Миллетт с целью заставить ее объявить о своей бисексуальности, а затем травило за то, что она не сделала этого раньше. У Миллетт случился нервный приступ и ее отправили в психбольницу. В своей книге «Полет» (1974) она вспоминает сон, который видела в то время, в котором «фигуры женщин выстроились в комнате чтобы обсуждать и перекраивать мою жизнь».
Тем временем «Диалектика» разожгла небольшую революцию в офисе издательства Морроу. Сотрудницы начали задавать вопросы: почему все секретарши и рекламщицы — женщины? почему немногие женщины-редакторы имеют низкую зарплату? «Мы стали устраивать встречи в обед за закрытыми дверями», — сказала мне Сара Пайл, в то время ассистентка отдела рекламы. «Мы все перестали носить каблуки и юбки». Женщин в издательстве Морроу заставил «немного помешаться» откровенный радикализм книги. «Файерстоун усовершенствовала Маркса и ввела в уравнение женщин», — отметила Сара. «Это было наше угнетение, все как на ладони». И не только женское угнетение. Самая длинная глава книги «Долой детство» описывала способы, которыми современное общество ограничивает и регулирует жизнь детей. «C продлением и усугублением детской зависимости женская прикованность к материнству также возросла до предела», — писала Файерстоун. «Женщины и дети теперь в одной дырявой лодке». Эти доводы оценила выдающаяся феминистка, что наверняка было приятно Файерстоун. Симона де Бовуар сообщила журналу Ms., что Файерстоун «предложила нечто новое», отметив, как книга «связала женское освобождение с детским освобождением».
Освобождающими Файерстоун считала право быть любимыми просто за то, какие мы есть, а не как часть попечительской системы «чтобы передать по наследству власть и привилегии». Она пыталась представить «дом», где «все отношения основаны на любви самой по себе», мир, цитируя последние слова книги, который дает «любви беспрепятственно струиться». Когда «Диалектика была опубликована, сестра Файерстоун Тирза сказала, что их отец назвал ее «лучшим сборником анекдотов столетия» и отказался читать.
В 1970 году в статье для «Заметок второго года» озаглавленной «Женщина и ее разум» Мередит Такс утверждала, что условия жизни женщин формируют состояние «женской шизофрении» — территорию нереальности, где женщина либо принадлежит мужчине, «либо, заблудившись в лакунах, балансирует на краю пустоты, без дела и собственной идентичности». Элен Шоуолтер заметила в своей книге «Женский недуг» (1985), что уже к середине 20 века множество литературных и публицистических работ определяли шизофрению как «горькую метафору» для «культурного положения» женщин. Сложилась такая ситуация, при которой радикальные феминистки не могли оставаться в бездействии, но их действие привело к том, что от них отвернулись обе стороны. Отчуждение извне стало побочным продуктом их политических взглядов: их радикальная позиция напомнила точку зрения, описанную в 1922 году клиническим психологом Луисом Сассом в работе «Современность и безумие», где он заметил, что шизофреник «четко понимает неискренность и конформизм нормального общественного существования». Другое отчуждение было более трагичным — отчуждение феминисток друг от друга.
Медицинские исследователи долго ломали головы над поздним открытием шизофрении (она впервые была диагностирована в Швейцарии в 1911 году), ее распространением преимущественно в индустриальных регионах, где она постоянно прогрессирует (в «примитивных» обществах это мимолетный недуг, если вообще встречается). В 2005, когда Жан-Поль Селтен и Элизабет Кантор-Грае, специалисты по эпидемиологии шизофрении, изучили различные факторы риска, самые значительные из которых — миграция, расизм, городское воспитание — они обнаружили, что эти факторы подразумевают хроническую изоляцию и одиночество, положение, которое авторы назвали «социальный тупик». Они предположили, что «общественная поддержка защищает от развития шизофрении».
Феминистки второй волны некогда надеялись укрыться от изоляции в сестринстве. «Мы были как первооткрывательницы, которые покинули родину», — сказала мне Филлис Чеслер, феминистка и психолог, написавшая книгу «Женщины и безумие» (1972), — и нам было некуда возвращаться. У нас были только мы сами». Были — пока движение не развалилось. Прошлой осенью, когда я беседовала с первыми нью-йоркскими феминистками, истории о «социальном тупике» обрели плоть: болезненное одиночество, бедность, плохое здоровье, психические заболевания, даже бродяжничество. В статье 1998 года «Феминистские времена забыты» Кейт Миллетт сокрушалась о длинной череде сестер, которые «исчезли, чтобы бороться в одиночестве и добровольном забвении или затерялись в приютах, и еще не вернулись, чтобы рассказать свою историю», либо оказались в такой безысходности, «которая может привести только к смерти». Она упомянула о самоубийстве Эллен Франкфорт, авторки «Вагинальной политики» и Элизабет Фишер, основательницы»Альфы», первого феминистского литературного журнала. «Мы не слишком-то помогали друг другу», — заключила Миллетт. — Мы не были достаточно тверды, чтобы создать сообщество или убежище».
Ко времени публикации «Диалектики» жизнь Файерстоун была в полном беспорядке. Переворот в Нью-Йоркских радикальных феминистках стал «совершенно опустошающим для нее», — рассказала Делл’Олио, одна из немногих активисток, с которыми Файерстоун еще разговаривала в конце 1970 года, — Кажется, от нее отвернулась семья». Она начала работать над многообещающим мультимедийным проектом, который она описывала как женский «каталог всей планеты». Джон Саймон, редактор Рандом Хаус, который обсуждал с ней этот проект, вспоминал: «Создавалось впечатление, что планируется что-то сложное, глубокое и серьезное», но в конечном счете «все это полная бессмыслица».
Иногда Файерстоун пропадала из виду. Ее друг Роберт Рот, редактор литературного журнала «И затем» вспоминал, что она бродила по Ист-Виллидж в неузнаваемом виде — в спортивной одежде, с экстравагантной прической и называла себя Кэти. Иногда она исчезала надолго. Однажды летом она получила научную должность в школе искусств в Новой Шотландии (Канада) где безуспешно пыталась работать над своим мультимедийным проектом, а затем на время перебралась в Кембридж, штат Массачусетс, где инкогнито исполняла обязанности машинистки в Массачусетском технологическом институте. Джон Дафф вспоминал, как заглянул к ней в начале семидесятых в квартиру на Десятой улице: «Таракан ползал по ее письменному столу. Она раздавила его, и его внутренности размазались, образовав гротескное и отвратительное пятно. И что она сказала? — «Это история моей жизни».
Неясно, когда появились первые симптомы шизофрении, но решающим толчком для ее начала стал семейный кризис. В мае 1974 Файерстоун вызвали домой в Сент-Луис, где она узнала что ее тридцатилетний брат Дэниел погиб в автокатастрофе. «Мне потребовалось больше суток, чтобы выяснить у отца горькую правду — в груди брата было пулевое отверстие», — писала она в «Душных помещениях».
В 1977 году Сол и Кейт Файрстоун объявили, что переезжают в Израиль, и Суламифь отправилась в Сент-Луис, чтобы забрать свои картины из дома. «Шули и отец снова начали ссориться», — сообщала Лея. Сол угрожал вычеркнуть дочь из завещания. Несколько недель спустя он получил заверенное нотариусом письмо, в котором Суламифь первая отрекалась от него. У Леи и Тирзы все еще сохранились копии письма, которое их сестра одновременно отправила Кейт. Оно было озаглавлено «Последнее письмо к моей матери» и заканчивалось обвинением:
«Когда я вижу, что, в конечном итоге, ты принадлежишь ему, не Ему (тем более не Ей); что ты позволишь, чтобы преданность Сол (или даже его смерти), вела тебя (до конца твоих дней); что ты никогда не сделала серьезной попытки управлять своей жизнью (завладеть ей, если надо), а вместо этого выбрала идти ко дну вместе с ним (беспрестанно хныча) — тогда… Я не могу себе позволить жалости к материнским страданиям, которые ты (как всегда) причиняешь себе.
Скажи спасибо, что тебе не придется использовать безумие этой дочери для самобичевания, потому что настоящим письмом Я РАЗРЫВАЮ СВОИ КРОВНЫЕ СВЯЗИ».
Сол умер от застойной сердечной недостаточности в 1981 году, в возрасте 65 лет (Кейт, страдающая синдромом Альцгеймера, до сих пор живет в Израиле). Лея вынуждена была отправить к Суламифь друзей, чтобы уговорить ту позвонить, и когда она наконец связалась с Леей, то принялась «разглагольствовать о бредовых вещах, о том что мы все являемся частью большого заговора». Тирза сообщила мне: «Когда наш отец умер, у Суламифь начался психоз. Она потеряла опору, которую он каким-то образом давал ей».
В начале 1987 года хозяин квартиры на Второй улице позвонил Лее чтобы сообщить, что ситуация становится «отвратительной». Соседи жаловались, что Файерстоун кричит по ночам и что она оставляет краны течь пока не размокнет паркет. Лея прилетела в Нью-Йорк и обнаружила, что Суламифь истощена и нищенствует, носит в сумке консервную банку еды и молоток. В романе с ключом Файерстоун писала, что она не ела в течение месяца, боясь что пища отравлена, и «выглядела как персонаж из Достоевского (что способствовало ее заработку в роли попрошайки)». На следующий день Лея приняла меры, за которые, как она говорила «Шули никогда меня не простила», и повезла ее в клинику Пейн Уитни на обследование. У нее была диагностирована параноидальная шизофрения и ее насильственно поместили в больницу Уайт Плейс. «Я в глубочайшем отчаянии, здесь некуда идти», — писала Файерстоун Лее несколько недель спустя. — Не успокаивай себя. Все плохо». На обратной стороне письма она нацарапала красными чернилами: «Ты вообще на моей стороне? Или ты на своей собственной стороне?»
Первая госпитализация длилась около 5 месяцев. В течение последующих нескольких лет Файерстоун постоянно забирали в медицинский центр Бет Израиль, где ее лечением обычно занималась доктор Маргарет Фрейзер, молодая психиатр. Фрейзер была поражена явным интеллектом Файерстоун и ее способностью связно разговаривать даже во время обострения психического расстройства. Она также вспоминает, что Файерстоун страдала от исключительно коварной формы синдрома Капгра, при котором человеку кажется, что люди скрывают свои личности под масками: Файерстоун считала, что люди прячутся «за масками из собственных лиц».
В 1989 году местная газета выпустила небольшую заметку со сплетнями о том, что авторка «Диалектики пола» ведет себя неадекватно и находится на грани выселения из квартиры на Второй улице. Кэти Сарачайлд, Ти-Грейс Аткинсон, Кейт Миллетт и несколько других феминисток организовали группу «Подруг Суламифь Файерстоун» чтобы выступить против выселения в жилищном суде. Однако Файерстоун, убежденная что именно кто-то из ее бывших коллег распространяла сплетни, не позволила им быть своими представительницами.
В грустном письме, отправленном другим участницам группы через день после Рождества 1989 года, Сарачайлд написала, что «ни одна из нас не смогла удовлетворительно исполнять обязанности в качестве подруги, соседки, последовательницы, давнишней политической заговорщицы», и что Файерстоун оказалась «в еще большей опасности остаться бездомной и голодной, чем раньше». Две недели спустя Миллетт отправила Файерстоун письмо, где написала: «Пожалуйста, возьми себя в руки и прояви интерес. Займись своей жизнью. Тебе есть чертовски много чего терять, так что прятать голову в песок не поможет». Файерстоун не ответила. В конце концов ее выселили из этой квартиры, а картины отправили на помойку.
Вторая попытка создать группу поддержки была более удачной. Начиная с девяностых, под контролем доктора Маргарет Фрейзер, группа женщин еженедельно встречалась с Файерстоун, чтобы помочь ей справиться с бытовыми задачами, от приема антипсихотических лекарств до покупки еды. Состав группы варьировался, но самыми преданными были несколько молодых женщин, которые в свое время изучали ее работы, а также Лурдес Синтрон, соцработница из службы сиделок Нью-Йорка, которую вдохновила «Диалектика» еще в юности, когда она была активисткой за независимость Пуэрто-Рико. Служба сиделок не хотела принимать Файерстоун в качестве клиентки, так как у нее не было медицинской страховки, однако Синтрон настояла. «Я сказала своей начальнице «Слушай, эта женщина сделала так много для других женщин, — вспоминала она, — как женщины могут бросить ее?» Так началась почти десятилетняя дружба. «Душные помещения» Файерстоун посвятила Синтрон.
Группа поддержки доказала свою ценность. Файерстоун написала Фрейзер в новогодней открытке в 1995: «Похоже, я снова восстанавливаюсь». По настоянию своих юных поклонниц, она стала писать «Душные помещения». Книга начиналась сном: женщина на роскошном тонущем лайнере. Пока безумные гуляки пляшут «как на картинках Гросса», она спускается на нижние палубы, ища «воздушный карман» и запирается в холодильнике «надеясь выжить, даже когда корабль полностью затонет». Этими автобиографическими зарисовками Файерстоун описывала тот контингент, который она называла, со своей обычной прямотой, «неудачниками», одинокими представителями страны «социального тупика». Бет Страйкер отнесла рукопись знакомому редактору в «Семиотекст», авангардное издательство, и он немедленно принял ее в печать. Чтобы отпраздновать публикацию, группа бывших коллег Файерстоун собралась в галерее искусств в центре Манхэттена для чтения. Некоторые из них, включая Кейт Миллетт и Филлис Чеслер, занялись собственно чтением; Файерстоун была слишком взволнована для этого. Чеслер вспоминает, как она «прижималась к стене, как обессиленный ребенок, и в то же время гордилась».
Но ремиссия продлилась недолго. К концу девяностых группа поддержки стала рассеиваться. Маргарет Фрейзер переехала, как и психиатр, который заменил ее. Лурдес Синтрон заболела, молодые женщины нашли работу в других городах и вскоре перестали собираться вместе. Файерстоун снова стала регулярно попадать в больницу, теперь уже в третьеразрядное общественное отделение клиники Белльвью. Она опять погрузилась в свое уединение, не отвечала на телефон и на звонки в дверь, не разговаривала даже с Леей. Одна из неудачливых посетительниц рассказал, что слышала поток слов на иврите из квартиры; Файерстоун повторяла еврейские молитвы. Когда несколько лет назад Лея приехала в Нью-Йорк и ее сестра наконец ответила на звонок, Лея умоляла ее хотя бы показаться. «Я просила: «Шули, я пройду мимо твоей квартиры, просто выгляни в окно и я помашу тебе», — но она не выглянула».
28 августа прошлого года, когда счет за аренду провисел на двери ее квартиры несколько дней, хозяин отправил смотрителя здания по пожарной лестнице, чтобы тот заглянул в окно. Смотритель различил неподвижную фигуру, лежащую на полу лицом вниз. Вызвали полицию. Сосед позвонил Кэрол Джиардине, сообщив, что найдено тело Файерстоун, и Джиардина вместе с Кэти Сарачайлд бросились в квартиру, чтобы убедиться. По крайней мере, говорила Сарачайлд, мы могли бы удостовериться, что «дверь закрыта после ухода полиции». Когда они прибыли, полиция велела им ждать на лестничной площадке. Спустя некоторое время, рассказывала Сарачайлд, появилось несколько полицейских, а прибывшие смотрели, как они «спускались вниз все пять пролетов, неся маленькое тело в мешке».
Когда пришла очередь Тирзы говорить речь, она обратилась к Эзре. «Извини, со всем уважением, но Шули была образцом для еврейских женщин и девочек по всему миру, и для всех остальных женщин и девочек. У нее были дети — благодаря ее влиянию тысячи женщин стали думать по-новому, жить по-новому. Я та кто я есть, и многие женщины стали теми кто они есть благодаря Шули».

