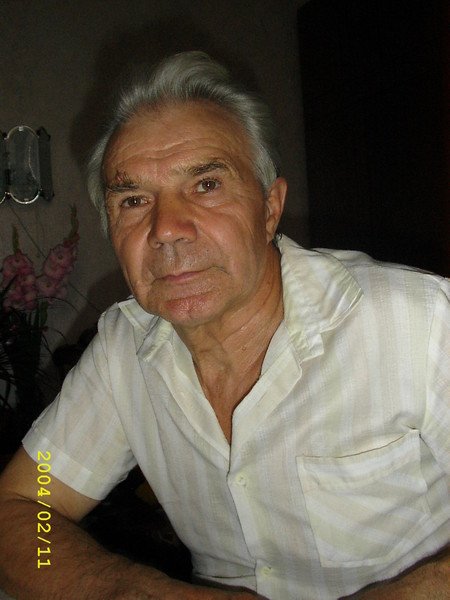Вход рубль выход два что значит
Вход – рубль, выход – два
В двух программных речах президента Дмитрия Медведева, произнесённых во время визита в Германию и на XII Петербургском международном экономическом форуме, содержится мысль о том, что барьеры для входа российского бизнеса в зарубежные активы необходимо устранять. Эта идея, неоднократно высказываемая ранее, прозвучала несколько по-новому. Стало, в частности, ясно, что барьеры эти нужно устранять не для того, чтобы усилить позиции и без того пугающего Запад «Газпрома» на энергетическом рынке Европы. Теперь освоение западных рынков встроено в логику инновационного пути развития российской экономики. То, что до сих пор применялось к крупному бизнесу, теперь нужно примерять на самую активно растущую прослойку российской экономики — средний бизнес.
Получается, что приобретение пакетов акций в успешных западных компаниях — один из эффективных инструментов освоения новых технологий, а следовательно — вообще развития российского бизнеса. Более того, это необходимый инструмент — если учитывать, что стратегия экономического развития страны предполагает ускорение роста. Однако совсем недавно к покупке зарубежных активов российские власти всех уровней относились по меньшей мере неодобрительно.
До сих пор главным символом российских инвестиций за рубежом была покупка Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси». И прочитывался этот символ как безответственное по отношению к своей стране своеволие не столько предпринимателя, сколько богача. Формула «бегство капитала» давала теоретическую базу для такого прочтения. Согласно ей, заработанное — по этой логике, нахапанное — в России нужно успеть вовремя вывезти, чтобы сохранить, — всё ликвидное было тогда только за бугром.
В Ростовской области случилась такая история: каменское предприятие «КОМЗ-Экспорт», крупнейший российский производитель бетономешалок, решило наладить сборочное производство в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом написала местная газета — и директору предприятия пришлось объясняться с городскими чиновниками: по какой такой причине он развивается не внутри, а снаружи. Он больше ни разу не пробовал рассказать о том, как идут у него дела в Дубаи. Руководство «Глории Джинс» тоже не очень охотно сообщает о том, что существенная часть активов компании с недавних пор находится в Китае и на Украине.
До недавнего времени, по большому счёту, проблемой для бизнеса было появление не только зарубежной, но и инорегиональной прописки. Неосторожным выходом заметной региональной компании за пределы субъекта федерации можно было испортить отношения с местными властями. «Вход — рубль, выход — два» — это формула, вполне характеризующая такого рода отношения между государством и бизнесом. Взята она из лексикона органов госбезопасности.
И вот звучит призыв входить в европейский бизнес. Вопрос: достаточно ли этот призыв силён и внятен внутри чиновничьего сообщества, чтобы иметь силу не только на экономических форумах, но и на местах?
Конечно, сегодня сама практика постепенно меняет отношение органов власти к ведению бизнеса за рубежом.
Одна из последних крупных сделок на юге России — приобретение «Ростсельмашем» канадского тракторного завода Buhler, акции которого котируются на бирже. Сам опыт управления успешным предприятием, выросшим в других социально-экономических условиях, позволяет взглянуть на международные стандарты бизнеса изнутри — например, освоить опыт работы с публичной компанией, обладающей капитализацией. Безусловно, этот опыт будет использован, когда настанет время делать публичным предприятием сам «Ростсельмаш». С другой стороны, появляется возможность лучше осознать свои собственные конкурентные преимущества. Руководство комбайнового завода, например, пришло к выводу, что заокеанская система продаж довольно вяловата: клиенту приходится платить вперёд и полгода ждать, когда заказанный трактор сойдёт с конвейера.
Сегодня на российские инвестиции появился заметный зарубежный спрос. Количество проводимых в регионе конференций, на которых представители европейских стран призывают местные компании вкладывать деньги в другой стране, значительно выросло в последнее время. Поначалу эти призывы удивляли, да попросту казались дикими, особенно будучи обращёнными к региональной аудитории, которая с крупным российским бизнесом явно не ассоциируется.
Однако что действительно хорошего для региональных властей если, скажем, лидер местной экономики начинает вкладывать свои деньги в пакеты компаний за рубежом в ущерб реализации инвестиционных проектов на родине? Кажется, что повод для сомнений остаётся.
Конечно, регион в целом выигрывает от того, что прописанная в нём компания растёт. При этом она имеет право пользоваться всеми не запрещёнными законом инструментами развития.
Но для региональных властей внешняя работа местных предприятий имеет ещё одну выгодную сторону. Эти компании самим фактом ведения деятельности за пределами страны заставляют искать на карте мира их родной регион. Борьба за присутствие на карте мира — такой, какой она представляется мировому бизнесу — это стержень борьбы за привлечение инвестиций.
И ещё. По мысли Дмитрия Медведева, инновационный путь развития экономики — это работа предприятий над созданием дополнительной добавленной стоимости. Именно поэтому нужно осваивать западный опыт. Сейчас слово «инновации» вообще стало очень модным, однако вот с реальными инструментами увеличения инновационной составляющей в экономике у властей на местах явные затруднения. Не мешать выходить — с этого должна начинаться любая инновационная программа в регионах.
Первый заместитель российского премьера Игорь Шувалов на том же Петербургском форуме вызвал аплодисменты в зале, когда заявил, что государство будет разрабатывать программы для обучения российских студентов за рубежом. «Мы уверены в том, что они вернутся», — добавил Шувалов. Вот это очень важно — уверенность. Власти всех уровней должны быть уверены в том, что инвестиции работающих на их подведомственной территории предприятий, сделанные за границей, тоже вернутся. И друзей приведут.
Дисконтные карты – зло. Не для покупателей, конечно, а для продавцов. Почему с картами лояльности, как и со многими другими проектами в бизнесе, вход — рубль, выход — два, знает наш постоянный колумнист Виктор Адамов, независимый член совета директоров в розничных компаниях «Джем» (г. Абакан) и CEO в Supplax (США).
Основную идею, которую я хочу донести в этом материале, можно свести к трем словам: «дисконтные карты — зло». Не для покупателей, конечно, а для продавцов. В принципе, на этом те, кто не любит лонгриды, могут лайкнуть пост и переходить к следующему. Тем же, кому эта тема интересна, я предлагаю разобрать ее поглубже и подискутировать.
Итак, почему же так радикально? Дисконтные карты, или карты лояльности, могут хорошо работать там, где рентабельность позволяет предоставлять весомую скидку. В тех же отраслях, где маржа такая же плоская, как тень от Луны, возможности для дисконтного маневра становятся весьма ограничены. Свой вклад вносят еще и сети с девизом «Каждый день низкие цены», у которых программ лояльности нет, но есть конкурентоспособные цены. И вот компания, у которой есть дисконтная программа, должна решить, какие цены ставить как розничные, а какие — со скидкой, чтобы оставаться привлекательной по цене для своей целевой аудитории.
Если поставить относительно высокие розничные цены, а по скидке сделать как у дискаунтера, то это выглядит, мягко говоря, странно.
Покупатели же не дураки и умеют сравнивать, и они будут резонно задаваться вопросом: а в чем ценность наличия карты, когда у соседнего магазина такая же цена для всех?
Ставить такую же цену в розницу, как у соседа, а по карте ставить дешевле? Тут тоже возникает ряд вопросов.
Первый — доходность. Мы все понимаем, но часто забываем, что вся скидка — это наша прибыль. Скидка 5% на товар с 20%-ной маржой «съедает» 25% валовой прибыли. Чтобы компенсировать эту потерю, компания должна продать на 30% товара больше. Хорошо, допустим, мы поставили цену на полке вровень с конкурентом, а скидка дается от этой цены. Если у нас владельцев карт немного, тогда такой маневр пройдет. А если наша дисконтная программа такова, что карты есть у всех? Тогда наша цена по скидке — наша реальная цена на полке. И что тогда делает сосед? Правильно, снижает цену до уровня нашей цены по скидке.
Получается как в истории про змею, которая начала есть свой хвост, который закончился у головы. Здесь есть решение — не печатать цены по скидке, чтобы не дать конкуренту возможность сканировать цены. Однако мы тут же лишаем и наших клиентов такой опции, что может повлиять на ценность владения картой.
Есть еще один нюанс. Большинство дисконтных систем начинается как фиксированная скидка в процентах, и такой подход тоже таит в себе множество подвохов. Скажем, мы установили 5% на все товары. При этом мы же знаем, что наценка на позиции разная: на трафикообразующие продукты она может быть и 5%, а на товары импульсного спроса — 150%. Вот и получается, что на товары первой цены мы скидку 5% давать не очень хотим, так как цена и так конкурентная, а на товары импульсного спроса скидка 5% для покупателя ни о чем, и мы начинаем фантазировать.
Самый простой способ — дифференцировать скидки, отказавшись от номинального дисконта. Идея неплохая, только есть одно но. Мы рискуем тем, что покупатели перестанут понимать экономику дисконтной системы и сама по себе программа лояльности станет скорее раздражающим, нежели привлекающим фактором.
Согласитесь, мало кто любит играть в лотерею при покупке. Я помню, 5-6 лет назад у «О’Кея» была «замечательная» дисконтная система, при которой на чеке 1,5-2 тыс. рублей скидка в большинстве случаев могла равняться нулю, и такая система ничего, кроме недоумения, не вызывала.
Лобовые дисконтные системы имеют право на жизнь. Они очень хорошо работают в магазинах брендовой одежды в классе средний плюс, где наценка позволяет давать скидку 10% и выше, и покупатели не могут сравнивать продукт с конкурентным магазином один в один. Например, наличие подобной карты в Ecco или Adidas определенно будет повышать лояльность к бренду и увеличивать вероятность похода в эти магазины.
Основными характеристиками для таких компаний являются нечастые, но регулярные покупки, относительно высокий средний чек и возможность предоставления значимой скидки. При этом можно работать с градацией по скидкам: чем больше и чаще покупаешь, тем больше скидка. Но тут надо быть осторожным, ведь потеря в дисконте может подтолкнуть покупателя перейти к конкуренту.
Другой хороший способ — бонусные программы, когда покупатель не получает скидку в момент покупки, а копит баллы, которыми впоследствии может расплачиваться или менять на призы. Первое широкое применение такие программы получили в авиаперевозках, где практически каждая авиакомпания предлагает копить мили. Такая программа работает хорошо, но не для всех, являясь привлекательной только для небольшой части клиентов. Но, как учит закон Парето, 20% покупателей дают 80% выручки. Бонусная система как раз и позволяет эффективно «привязать» к себе значимых клиентов, а за счет нескольких уровней в статусе мотивировать покупателей делать выбор в пользу определенной компании. Опыт бонусных программ в свое время был с разной степенью успешности применен в других отраслях — автозаправках, строительном ретейле, электронике.
В последнее время часто приходится слышать, что дисконтная система наряду с традиционными преимуществами имеет еще одну важную особенность — биг дата. Типа с помощью карт можно собирать статистику по частоте покупок, предпочтениям покупателей, анализу продаж с учетом демографии и т.д. Возможно, это и так, но я очень скептически смотрю на это заявление.
У большинства компаний попросту нет ни ресурса, ни экспертизы для обработки данных. И даже обработка таковых в условиях нестабильного ассортимента и прыгающих цен вряд ли будет сколь-нибудь полезна.
Задача системы лояльности — сделать так, чтобы при прочих равных покупатель делал выбор в нашу пользу. Очень часто менеджмент компании переоценивает значение дисконтных карт и их влияние на выбор покупателя. Опять и опять в основе выбора — корневое предложение компании — ассортимент, цены, сервисы. Карта лояльности — это вишенка на торте, не более того, и надо много раз подумать, стоит ли делать систему лояльности, и если делать, то какую. Для этого необходимо ответить на несколько вопросов: кто потребители, какая цель у программы и каков ожидаемый эффект?
И, вполне возможно, окажется, что есть множество других сфер деятельности компании, отдача от которых будет намного выше, чем от раздачи дисконтных карт с последующей потерей доходности. А после запуска отказаться от программы будет сложнее, чем их запустить. Ведь с картами лояльности, как и со многими другими проектами в бизнесе, вход — рубль, выход — два.
PS: В следующий раз я напишу про эволюцию карт в «Петровиче». С чего мы начали, и к чему пришли.
Другие колонки Виктора Адамова читайте здесь.
Вход – рубль, выход – два
Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, член РСМД
Вынесенная в заголовок русская поговорка из мафиозного лексикона хорошо подходит к ситуации, в которую попала Великобритания после референдума о членстве в Европейском союзе. Победный клич противников ЕС «Вернем себе контроль!» обернулся цугцвангом мучительных переговоров об условиях выхода.
Договоренность, которой удалось достичь с Брюсселем Терезе Мэй, не нравится никому – ни сторонникам брекзита, ни тем, кто хотел бы остаться в единой Европе. Причины недовольства, понятное дело, диаметрально противоположные, что и держит правительство на плаву. За два с лишним года пребывания в должности премьер-министр пробуждала у наблюдателей разные чувства – от доверия и надежд до презрения и жалости, сейчас она скорее вызывает уважение: хозяйка Даунинг-стрит, 10 демонстрирует силу характера и твердость нервов, находясь в отчаянном положении. Остальные фигуранты сложившейся коллизии производят какое угодно впечатление, но только не солидных, ответственных государственных мужей и жен.
На континенте происходящее будит разноречивые чувства. Британские политические конвульсии служат пугающим назиданием тем внутри ЕС, кто летом 2016 го задумался, не повторить ли кунштюк Лондона. А ведь Великобритания – третья по величине экономика в Союзе, что уж говорить о гипотетических поползновениях меньших игроков. Евроскептики по всей Европе – от Будапешта и Варшавы до Рима и Парижа, – сколь популистски они ни были бы настроены, не рискнут ставить вопрос об экзите.
У этого, однако, есть и другая сторона. Пафос евроскептиков теперь нацелен на трансформацию ЕС, его возвращение к «старому доброму» европейскому сообществу. Тому, в котором существовали Общий рынок и экономическая координация, но не было надгосударственной политической власти и тотального регулирования. Рост поддержки партий, чьи лозунги сочетают национал-самобытность и отторжение правящих элит, фиксируется на каждых выборах в любой европейской стране. Согласно исследованию, проведенному по заказу газеты The Guardian, за 20 лет база популистских партий расширилась почти в четыре раза, достигая теперь четверти европейских избирателей. Предстоящих в мае следующего года выборов в Европарламент умеренные круги ждут едва ли не с ужасом. Партии же антиистеблишмента, вдохновляемые неугомонным экс-стратегом Трампа Стивом Бэнноном, намерены согласовывать свои действия во время кампании и после, чтобы обрести реальное влияние в главном представительном органе Евросоюза. И начать менять его в соответствии со своими представлениями.
Есть еще один аспект хаотического брекзита для континента. Хотя в Брюсселе и других столицах убеждены, что Великобритания пострадает от него гораздо больнее, он ударит и по всей европейской экономике. В Европе сейчас нет сильных политических лидеров, которые могли бы быть уверены в том, что легко справятся с кризисом. Меркель уходит. Рейтинг Макрона близится к тому, чтобы побить антирекорд его предшественника Олланда. Не теряет поддержки Сальвини, но Италия в таких долгах, что связать ему руки несложно. Социалистическое правительство Испании мужественно противостоит тренду на исчезновение сильных левых партий, но едва ли способно брать на себя общеевропейские функции. Если к вороху проблем добавятся и последствия отчаливания Великобритании, все только больше запутается.
Наилучшим выходом для Евросоюза, вероятно, стал бы повторный референдум, на котором британцы, если верить свежим опросам, скорее всего, проголосовали бы за членство. Но, во первых, гарантий результата никто не дает – раздражение на Брюссель очень велико. Во вторых, он станет позором для Великобритании, которая поставит себя в ряд малых стран, – это в Словакии, Ирландии или Дании гражданам предлагали переголосовать «неправильное» решение. Да и масштаб дискредитации политической системы трудно будет переоценить. Скорее, договоренности с ЕС никто уже всерьез корректировать не будет, брекзит состоится на этих или почти этих условиях, и осуществит его правительство Терезы Мэй. Потом развернется новый раунд борьбы, возможны внеочередные выборы и прочее. А вот будущие отношения Лондона с Евросоюзом будут уже больше зависеть от того, каким он станет. Потому что после ухода Великобритании, как бы он ни был организован, для нее наступит ясность. А вот на континенте решающие процессы только начнутся.
Источник: Профиль
Вход рубль выход два что значит
Антоша, китайский мудрец сказал:- Никогда не заходи в комнату выхода из которой ты не знаешь. (пожалуй лучше не ответишь)
возможно. значит такие пути суть тупик.
ЭТО КАК В АНЕГДОТЕ ДИРЕКТОР ЗАВОДА ГОВАРИТ РАБОЧИВ ВХОД 5 РУБЛЕЙ ВЫХОД 50 ТАК ОНИ СУКИ НЕДЕЛЯМИ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ
это всеравно что куй сьешь два высерешь.
️
Но все это юридические тонкости и сухие формулировки, за которыми скрываются настоящие жизненные драмы. Хотим мы того или не хотим, но за время работы между тобой, коллегами и начальником (начальниками) устанавливаются неформальные отношения, которые бывает очень трудно разорвать.
Связанные одной цепью
Некоторые компании вне зависимости от их величины идут по пути «впутывания» сотрудников в сомнительные (с точки зрения закона) мероприятия и проекты. Далеко не всегда у тебя есть возможность получить письменную резолюцию шефа на то или иное действие. А шеф, в свою очередь, с радостью отдаст тебе сомнительное распоряжение устно, чтобы в «случае чего» не быть крайним. Чем дольше ты работаешь в такой фирме, чем чаще ты ставишь подпись на документах, в юридической правильности которых ты не уверена, тем тяжелее тебе будет выскочить из связки. Ты владеешь информацией о делишках компании, а начальство «держит тебя» за твои собственные «проделки». Кстати, в таких конторах руководство очень ценит откровенность сотрудников, их рассказы о своей семье, увлечениях, планах.
Ведь чем больше ты знаешь о человеке, тем легче найти рычаги воздействия на него. Для того, чтобы собрать информацию, хорошо подходят частые посиделки с обилием развязывающего язык спиртного. Между прочим, и карьеру в таких заведениях делают не умные, а преданные.
Хотя существуют исконно «рисковые» профессии и должности, например, главный бухгалтер.
Стать звеном подобной цепи может любой сотрудник. Уволиться из такой конторы, даже по собственному желанию, бывает не просто. Вернее, отпустят тебя, скорее всего «с миром», но чувство некоторого дискомфорта и страха за прошлые грешки может остаться надолго.
Отношение к людям как к компьютерам
В организациях исповедующих подобные жесткие принципы, увольнение может быть весьма болезненным: о своем решении руководитель уведомит тебя буквально накануне увольнения и попросит написать заявление «по собственному желанию».